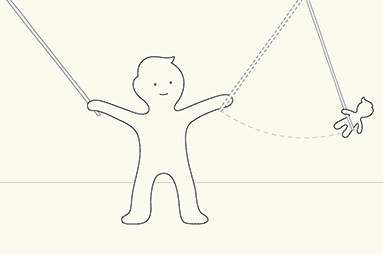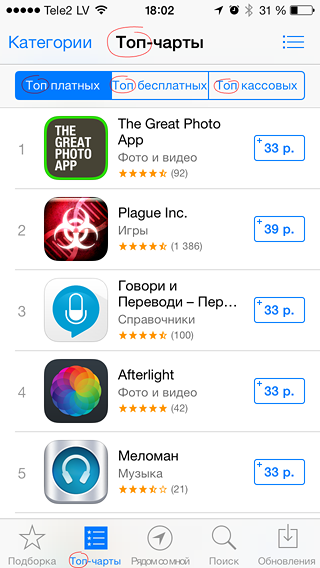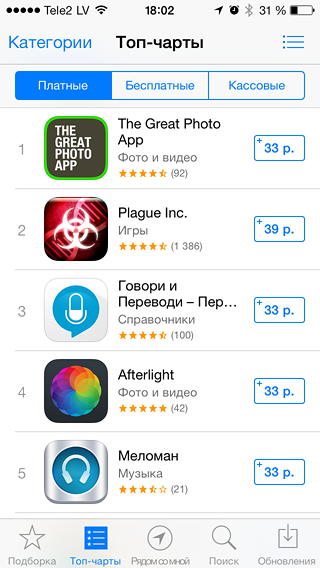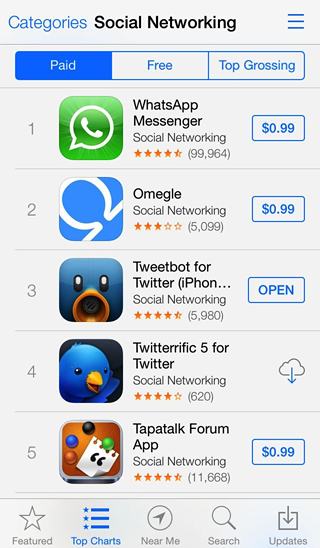Предлагаю интересную и самодостаточную история из книги Генриха Альтшуллера «Найти идею». Вырезал отступления относящиеся к книге в целом и невлияющие на саму историю (пунктуацию оставил авторскую).
Мне повезло: в детском садике шёл
ремонт, одна комната была уже пуста, и я за двадцать
минут подготовил всё необходимое для опыта. «Оборудование» было предельно простым — две тонкие верёвки, прикрепленные к потолку.
На подоконнике лежали старые, сломанные игрушки. Воспитательница предложила их убрать, но я махнул рукой: пусть остаются.
Можно было начинать эксперимент. Воспитательница ввела первого подопытного — мальчика лет шести. Я
объяснил: надо взять одну верёвку и привязать к концу
другой верёвки.
Мальчик схватил ближайшую верёвку, потянул ее к другой... и остановился.
«Оборудование» я специально рассчитал так, чтобы
нельзя было дотянуться до одной верёвки, держа в руке
другую. Кто-то должен был помочь — подать вторую
верёвку. В этом и была изюминка задачи: как одному
справиться с работой, для которой нужны двое?..
Мальчик подергал верёвку, пытаясь ее растянуть,
ничего у него не получилось. Тогда он бросил первую
верёвку и схватил вторую. Результат тот же — соединить верёвки не удалось.
Побегав от одной верёвки к другой, наш подопытный
отошёл в угол и стал тереть глаза кулаками. Я подумал:
«Боже мой, хоть бы раз в жизни увидеть инженера,
плачущего из-за того, что не удалось решить задачу…»
— Молодец, — сказала воспитательница, протягивая ему конфету «Гулливер».— Ты всё сделал хорошо,
очень хорошо.
И увела просиявшего подопытного: нужно было, чтобы он не обменивался опытом с теми, кому ещё предстояло участвовать в эксперименте.
В комнату вошла девочка. Мы объяснили задание,
девочка схватила верёвку, не дотянулась до второй верёвки, бросила одну верёвку, схватила другую, снова не
дотянулась... и громко заревела. «Гулливер» и на этот
раз спас положение.
Быстро прошли, еще шестеро ребят. Все повторялось:
задание — безуспешная суета с верёвками— «Гулливер» в утешение. А потом появилась девочка, которая
решила задачу. Обыкновенная девочка с косичками и
веснушчатым носом. Действовала она поначалу тоже
обыкновенно: схватилась за одну верёвку, не дотянулась
до другой, бросила верёвку, схватила другую... И вот
тут она задумалась. Она перестала суетиться и начала
думать! Сморщив веснушчатый нос, она смотрела куда-
то в пространство и думала.
— Я подтяну эту верёвку, — сказала она воспитательнице,— а вы дайте мне ту верёвку. И добавила:
— Пожалуйста.
Воспитательница вздохнула: нет, ей и вот этому дяде вмешиваться в игру никак нельзя. Признаться, я
ожидал слёз. Но девочка, шмыгнув носом, продолжала
думать. Она перестала нас замечать. Оглядывая комнату, она что-то искала. Потом подошла к подоконнику, порылась в игрушках и вытащила потрепанную куклу.
Нужен был второй человек, который подал бы верёвку,
и девочка нашла этого второго человека... Точно по
стандарту: копия объекта вместо объекта!
Она начала привязывать куклу к верёвке (я шепнул
воспитательнице: помогите привязать). Потом раскачала
получившийся маятник, взяла вторую верёвку, поймала
куклу. Задача была решена.
Я пытался отметить этот подвиг удвоенным призом,
но воспитательница сказала: нельзя, непедагогично. Девочка получила «Гулливера», шмыгнула носом и убежала, не подозревая, что только что совершила подлинное
чудо, решив трудную творческую задачу.
<…>
«Как же дети будут решать задачу? — удивилась воспитательница, когда я попросил убрать игрушки.— Теперь никто не догадается...»
Я ответил неопределенно: там будет видно, посмотрим. Для чистоты эксперимента воспитательница не
должна была знать решение задачи.
За полтора часа мы пропустили одиннадцать ребятишек. Всё шло по привычной схеме: задание — суета —
«Гуллйвер». Дважды мне показалось, что у подопытных
промелькнула мысль привязать что-то к верёвке. Но в
комнате не было ничего похожего на груз, и находка терялась, исчезала. Двенадцатым оказался, очень подвижный мальчишка. Ему не стоялось на одном месте, он ёрзал, подпрыгивал, вертелся. Едва выслушав условия задачи, он начал бегать от верёвки к верёвке. Ему нравилось бегать, и я подумал, что непоседа будет долго суетиться, но задачу не решит. Я ошибся. Внезапно мальчишка замер. Он стоял и думал…
<...>
Изобретатель суетится, даже если неподвижно сидит
перед листом бумаги. Суетятся мысли — такова природа метода проб и ошибок: «А что если попробовать так?.. Или вот так?..» Мальчишка не суетился, даже мысленно, это было видно по его изменившемуся поведению. Он выстраивал какую-то цепь.
Думал.
Внимательно осмотрел комнату. Воспитательница
выразительно вздохнула: вот, мол, не надо было убирать игрушки, ребёнок решил был задачу, а теперь у него безвыходное положение... И тут непоседа быстро скинул сандалии, схватил их и начал привязывать к верёвке. Воспитательница ойкнула. Я подумал: просто гениальный парень, обидно, если через четверть века он станет обыкновенным инженером...